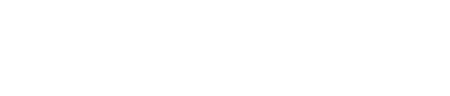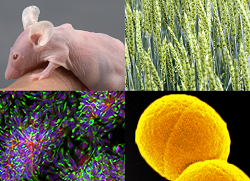Прости нас, мышь
 Необычный, но вполне закономерный памятник появился в новосибирском Академгородке — за зданием SPF-вивария Института цитологии и генетики СО РАН.
Необычный, но вполне закономерный памятник появился в новосибирском Академгородке — за зданием SPF-вивария Института цитологии и генетики СО РАН.
Симфония открытия
Заказчиком памятника мыши стал институт, учёные которого проводят свои исследования на грызунах с 1957 года, когда был основан ИЦиГ СО РАН. Идея отдать дать уважения лабораторным животным, благодаря которым делаются открытия в генетике, медицине, физиологии, витала давно. И вот, как говорится, всё сошлось. Церемония открытия состоялась 1 июля и сопровождалась изрядной долей юмора.
— В мире есть разные памятники — забавные и серьёзные. Мы отдаём дань уважения и справедливости нашим помощникам, братьям меньшим, которые служат науке. Надеюсь, что наша новая музейная экспозиция и культурный объект со временем станут тем уголком, куда учёным будет приятно приходить и обсуждать серьёзные научные проблемы, а школьники смогут получить здесь новую информацию об устройстве мира, — сказал директор института академик РАН Николай Колчанов.
Когда с памятника сняли белое покрывало, присутствующие дружно рассмеялись. На постаменте сидела мышь, в платочке, накинутом на плечи, на её носу были очки, а в лапках — спицы, ещё пару секунд назад она увлечённо вязала, но что-то вдруг заинтересовало её, оттого так приподнято ухо…
Автором эскиза стал художник, сотрудник института Андрей Харкевич, сумевший объединить в одном образе и лабораторную мышь, и учёного.
— Они служат одному делу. Учёный без мыши не может познать язык ДНК — самый главный язык, язык жизни, с помощью которого было сотворено всё на земле. На мой взгляд, язык этот очень похож на узелковое письмо, поэтому и родился такой образ — мыши, вяжущей ДНК, — говорит художник. — Мышка запечатлена в момент открытия: она уже что-то придумала, что-то знает, но сама симфония открытия, весь этот фонтан радости: «Эврика!», — ещё не зазвучала в её голове.
Воплощал идею скульптор Алексей Агриколянский, известный в Новосибирске по таким работам, как памятник первому светофору, он же «Городовой», памятник «идущему по ночному городку» Михаилу Зуеву, памятников «Бабушки у подъезда» и «Деловая женщина».
— Мне было интересно работать над таким гуманистическим проектом, хотя и довольно сложно. Как должна выглядеть лабораторная антропоморфная мышь? Был эскиз Андрея, он приходил ко мне с творческой группой, что-то мы дорабатывали. Нужно было найти среднюю линию между мультипликационным персонажем и анатомией собственно мыши, чтобы учёные, знающие её строение досконально, не сказали бы: так не бывает, — рассказывает Алексей. — Городская парковая скульптура, которой я часто занимаюсь, обычно делается из композита в силу ограниченного бюджета. А здесь из уважения к объекту решили пойти по монументальному пути — изготовить памятник из бронзы.
Отливали Мышь в Томске. Поскольку в Новосибирске в отсутствии заказов не осталось литейщиков. Работу выполнил известный томский литейщик Максим Петров, отливавший такие неординарные изваяния, как памятник Чехову на берегу Томи и памятник Счастью — в виде сытого волка из мультика «Жил-был пёс».
«Хромосомный» бульвар
Примечательно, что появился новый культурный «объект» за зданием вивария, или помещения для содержания и разведения лабораторных животных. Около трёх тысяч животных — мышей, крыс, хомяков — находится сегодня в Центре коллективного пользования «SPF-виварий» Института цитологии и генетики СО РАН. Приставка SPF (Specific Pathogen Free) — международный стандарт, который означает, что животные содержатся в условиях отсутствия патогенов — микроорганизмов, вызывающих различные инфекционные заболевания, иными словами, в «чистых» условиях. Именно такой формат установлен во всём мире для проведения доклинических испытаний лекарственных разработок. ИЦиГ, построив виварий, один из лучших не только в стране, но и мире, по словам Владимира Шумного, академика РАН, с 1986 года по 2008-й возглавлявшего институт, открыл себе тем самым целый ряд перспектив. Перенимать этот многотрудный опыт недавно приезжали соседи — томичи.
— Коллектив вивария, тогда ещё не запустившегося, обращался в заксобрание области, строительство уже подходило к концу, а все затраты на его содержание ложились тяжким бременем на сам институт, в бюджете не было заложено строки на его финансирование. По нашему обращению сюда приезжали депутаты Госдумы, члены Совета Федерации. И со временем проблема была решена. А две недели назад в заксобрание приезжала делегация Томской думы, мы их сюда специально привозили, они интересовались подробностями устройства вивария, планируют в Томске строить, — рассказывает Максим Охалин, заместитель председателя комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политике Законодательного собрания Новосибирской области.
— Грызуны ближе всего к приматам на филогенетическом, или эволюционном, древе. Так что это памятник не просто лабораторной мыши, памятник нашим кузинам. Представьте себе, что у нас с вами и этой мыши 91 миллион лет назад была одна единственная и общая бабушка. И вот тут надо честно сказать, она гораздо больше была похожа на неё, чем на нас, — продолжает просвещение участников церемонии открытия «Мыши» заведующий лабораторией ИЦиГ СО РАН, профессор НГУ Павел Бородин.
Геном мыши на 95 процентов совпадает с человеческим. И несмотря на то, что свиньи и обезьяны генетически ещё ближе к человеку, именно мыши остаются главными объектами исследований современной генетики, и в первую очередь из соображений экономии — затраты на их разведение и содержание существенно ниже. Как ни парадоксально это звучит, но здоровье человечества сегодня во многом зависит от условий, в которых содержатся лабораторные мыши, и исследований, которые проводят учёные с их помощью.
 Открытие памятника «Мыши, вяжущей ДНК» состоялось в рамках Конференции Вавиловского общества генетиков и селекционеров «Проблемы генетики и селекции». Благодаря этому обстоятельству на церемонии открытия побывали известные отечественные генетики.
Открытие памятника «Мыши, вяжущей ДНК» состоялось в рамках Конференции Вавиловского общества генетиков и селекционеров «Проблемы генетики и селекции». Благодаря этому обстоятельству на церемонии открытия побывали известные отечественные генетики.
— У нас во дворе института стоит памятник кошке, поставили его физиологи, которые их «мучают», занимаясь своими исследованиями. Таким образом, эта ось: Новосибирск—Ленинград—Петербург продолжает существовать, и, надеюсь, не без пользы, — заметил Сергей Инге-Вечтомов, председатель Совета по генетике РАН, академик РАН, заведующий кафедрой генетики Санкт-Петербургского университета.
А Николай Янковский, член-корреспондент РАН, директор Института общей генетики им. Н. И. Вавилова (Москва), напомнил, что оба института — и ИЦиГ, и ИОГен — были основаны одним человеком — Николаем Петровичем Дубининым. Это было в пору возрождения советской генетики после двух десятилетий лысенковщины, в середине прошлого века.
— В здоровье мыши вкладываются многие миллиарды долларов, — сказал Николай Казимирович. — И делается это для того, чтобы сначала она чем-нибудь заболела, а потом можно было бы посмотреть, что с ней стало, когда её пытались вылечить. Так что этот памятник — дань уважения, признательности и извинения всем невинно замученным за наше здоровье мышам.
«Мышь» венчает собой бульвар со стелами, на которых изображены этапы деления клетки — от парных хромосом до образования двух самостоятельных клеток. Из малых форм выделяются и урны, на которых изображены известные лабораторные животные — крысы, мыши, собаки, лягушки. Особенно красив бульвар будет вечером, когда голубым, энергосберегающим светодиодным светом загорятся его стелы и урны. Бульвар с памятником мыши, как сообщает сайт www.COPAH.info, строился на добровольные пожертвования и обошелся в 1,7 млн рублей. Это место и сам главный персонаж, по словам заместителя директора института, одного из авторов проекта Сергея Лаврюшева, со временем обрастёт легендами. В свою очередь директор института почвоведения и агрохимии СО РАН Константин Байков назвал бульвар «хромосомным» и, чокаясь с мышью, коснулся её носа. Это было похоже на начало традиции.
Крысиный папа
Генные биотехнологии во всём мире продвигаются гигантскими темпами. Ещё несколько лет — и получить персональный геном сможет любой человек со средним достатком. А пока идёт накопление информации о влиянии отдельных генов на предрасположенность людей к определённым болезням. И тут на помощь приходят лабораторные животные: на них определяются ключевые биологические мишени, на которые нужно воздействовать для лечения больного, целенаправленно нокаутируются, или выключаются, отдельные гены, отвечающие за развитие болезней.
Ещё в 70-х годах вывел свою первую линию крыс-гипертоников Аркадий Львович Маркель. Таких линий в мире всего несколько. «Почти сорок лет я провёл в виварии, меня даже прозвали “крысиным папой”. На самом деле, когда с ними общаешься, удивляешься тому, как мы похожи: по сути одни и те же гены, поведение. Мы в растерянности, не зная, что делать, чешем затылок, а крыса в подобной ситуации начинает умываться. Всегда чувствуешь себя немного виноватым, когда подвергаешь их различным экзекуциям».
На животных SPF-вивария сегодня проводятся многочисленные исследования. Среди приоритетных — изучение влияния наночастиц на организм, чтобы понять, так ли это безопасно, а также работа с опухолями, в том числе глиомными опухолями мозга и опухолями молочной железы. Кроме того, здесь создаётся уникальный криобанк — хранилище биоматериалов в жидком азоте.
— У нас имеется два сосуда Дюара, каждый вместимостью 160 тысяч эмбрионов, а храним мы пока около четырёх тысяч эмбрионов. Среди них уникальные линии, созданные учёными Института цитологии и генетики, и привезённые из других институтов. К нам обратились с просьбой положить в криобанк байкальского омуля, будем работать и по другим редким видам. И в целом в виварии сейчас разворачивается большая линейка научных исследований. У нас уникальное оборудование, к примеру, томограф для лабораторных животных, таких в мире всего три, — говорит заведующий Центром коллективного пользования «SPF-виварий» Василий Напримеров.
Новосибирский SPF-виварий был открыт 30 марта 2010 года, он первым в России получил статус Центра коллективного пользования. Среди его действующих и потенциальных пользователей — учёные институтов СО РАН и сибирских отделений медицинской и сельскохозяйственной академий наук, а также НГУ и других университетов, наконец, фармакологические фирмы. Это современный центр генетических ресурсов, который способен вывести российскую генетику на новый уровень.
Геном мыши на 95 процентов совпадает с человеческим. И несмотря на то, что свиньи и обезьяны генетически ещё ближе к человеку, именно мыши остаются главными объектами исследований современной генетики.
Источник: Ведомости законодательного собрания России